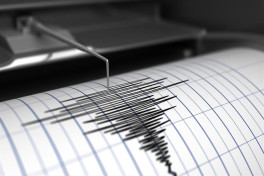Политика
- Главная
- Политика
Тофиг Зульфугаров: ОТГ+ приглашает к сотрудничеству, Москва ищет диалог, в Ереване — повод для реванша - ИНТЕРВЬЮ

Южный Кавказ снова в центре внимания — на этот раз из-за подписанной в Габале декларации ОТГ+, которая открывает новую страницу в региональной политике. Между Баку и Москвой идут осторожные попытки восстановить диалог после паузы: сегодня Ильхам Алиев встретился с Владимиром Путиным, и одной из тем разговора стала катастрофа самолета AZAL. В Ереване тем временем вновь звучат реваншистские заявления, подчеркивающие, что мирный процесс остается по-прежнему хрупким.
На этом фоне Азербайджан продолжает укреплять стратегические связи с Китаем, Великобританией и США, последовательно выстраивая независимую и сбалансированную внешнюю политику.
О том, как формируется новая архитектура региона и какие вызовы стоят перед Баку, рассказал экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.
— Начнем с самого последнего события — с Габалинской декларации, подписанной в эти дни. Самый главный пункт в документе — это пункт ОТГ+. Что он означает и какие государства, на ваш взгляд, могут быть приглашены к участию в этой площадке? Понятно, что речь идет и о Таджикистане, но может ли этот пункт подразумевать также возможное подключение таких стран, как Армения, Грузия, а может быть, США, Британия, Россия, Иран?
— Во-первых, это очень логичное и своевременное решение. Если мы посмотрим на географию ОТГ+, то увидим, что организация граничит со странами, где проживает большое количество тюркоязычного населения — от России, Грузии, Ирана и Китая до упомянутого вами Таджикистана. Мы можем заметить, что в этих государствах, особенно в приграничных районах, живет значительное число тюркоязычных людей. Они являются гражданами своих стран, но при этом вполне возможно, что участие в культурных и экономических проектах, реализуемых под эгидой ОТГ+, будет для них интересным и выгодным.
Таким образом, организация демонстрирует открытость по отношению к своим соседям, что особенно важно на фоне периодически звучащих упреков в том, будто ОТГ — это некий союз, направленный против других стран. Подобные высказывания мы нередко слышим от некоторых аналитиков, в том числе из России и Ирана.
Кроме того, стоит отметить, что для Китая достаточно чувствительной темой остается Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Именно поэтому открытость формата ОТГ+ играет ключевую роль: она позволяет многим государствам, которые прежде испытывали настороженность или недоверие, снять эти опасения и включиться в совместный процесс сотрудничества.
— Как вы считаете, может ли ОТГ со временем стать геополитическим актором, сопоставимым по влиянию с Евросоюзом, АСЕАН или объединениями латиноамериканских стран?
— Если говорить о перспективах превращения ОТГ в полноценного геополитического игрока, сравнимого с Евросоюзом, АСЕАН или латиноамериканскими организациями, нужно понимать иерархию многосторонних международных объединений. На вершине этой системы, с точки зрения влияния и полномочий, находится ООН. Она, в свою очередь, взаимодействует с региональными организациями различного профиля, которые в международном праве классифицируются как региональные соглашения. Таких объединений в мире существует огромное количество — это Лига арабских государств, африканские, исламские, латиноамериканские и европейские структуры. Каждая из них отличается направленностью, сферой деятельности, механизмом координации и степенью влияния.
Если говорить о тюркском мире, то долгое время, несмотря на то что тюркоязычные народы занимают значительную часть обширного евразийского пространства, на международной арене существовало лишь одно государство, представлявшее этот мир. После распада Советского Союза появились новые независимые страны, где тюркоязычное население составляет большинство. Именно эти государства приняли решение создать организацию, которая позволила бы им действовать сообща, координировать позиции и выступать как союзники на различных международных площадках.
С тех пор отношения внутри ОТГ развиваются динамично. Мы видим реализацию целого ряда экономических и культурных программ, а также шаги, направленные на укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Все это свидетельствует о стремлении не просто к декларативному единству, а к реальной координации действий. Процесс идет поступательно, и государства все больше синхронизируют свои интересы и инициативы.
В то же время нужно понимать, что многие страны, не входящие в организацию, воспринимают этот процесс настороженно. Некоторые видят в нем потенциальную угрозу своим интересам и пытаются использовать подобные страхи в собственных целях. Подобные интерпретации мы уже наблюдали не раз, и, как правило, они не имеют под собой реальной почвы.
Габалинская декларация ОТГ+ как раз и направлена на то, чтобы развеять эти сомнения. Она подчеркивает открытость организации, закрепляет принципы, на которых строится сотрудничество, и делает акцент на том, что ОТГ+ — это не закрытый клуб и не альянс против кого-либо. Напротив, это объединение, нацеленное на диалог, взаимопонимание и партнерство.
Эта декларация стала важным политическим и геополитическим сигналом: тюркоязычные государства демонстрируют стремление не изолироваться, а, наоборот, активно интегрироваться в международное сообщество. Они показывают прозрачность своих намерений и готовность к взаимодействию со всеми соседями. В этом и заключается главный смысл и значение саммита в Габале, ставшего символом нового этапа в развитии Организации тюркских государств.
— Вчера прошла большая пресс-конференция у Роберта Кочаряна. Он, как всегда, наговорил много всего — и особенно громко высказывался по Зангезурскому коридору, утверждая, что, мол, они подписали бы документ, не сдав ничего. И, пожалуй, самое главное — это заявление о том, что они идут на выборы. Как вы оцениваете шансы реваншистов и команды Кочаряна на выборах 2026 года?
— Во-первых, как показывает реальность, все эти заявления не несут в себе ничего нового. Такое впечатление, что все уроки истории, которые выпали на долю Армении за последние годы, прошли мимо ее политиков — хотя я бы назвал их не политиками, а политическими преступниками, которые когда-то навязали Республике Армения фашистские принципы взаимоотношений со своими соседями. Все это вылилось в вооруженную агрессию против Азербайджана, принесло десятки тысяч жертв — в том числе и среди самих армян, — нанесло огромный ущерб Азербайджану и оставило глубокие раны в сознании народов.
Эти люди так и не поняли простую истину: проводя аннексионистскую политику, Армения не выиграла ничего. Наоборот — проиграла все. Так называемая третья Армянская республика сегодня находится в глубочайшем кризисе: геополитическом, демографическом, экономическом, а если угодно, и коммуникационном. Она продолжает играть роль чужеродного элемента в регионе, оставаясь форпостом интересов внешних игроков.
Призывы к возвращению старой политики едва ли найдут отклик. Эти слова обращены к обществу, которое уже заплатило слишком высокую цену за агрессию. Захотят ли армянские отцы и матери снова отправлять своих сыновей на фронт ради новой авантюры — большой вопрос. Я в это не верю. Думаю, в самой Армении тоже мало кто в это верит.
Кочарян сегодня пытается выстроить некий политический проект, чтобы уйти от ответственности за преступления, совершенные в годы его правления и ранее.
После конфронтационной политики Пашиняна в Армении отсутствует один важный компонент — настоящая политическая ответственность. Он критикует своих предшественников за развал армии, коррупцию, воровство бюджета, но при этом не осуждает те преступления, которые совершили Кочарян, Саргсян и другие против Азербайджана.
Именно это бездействие и позволяет подобным людям оставаться безнаказанными. Да, некоторые из них сегодня уже отвечают перед законом в Азербайджане, но в самой Армении так и не состоялись суды, которые были бы справедливыми и необходимыми. Ведь жертвами этих преступных политических концепций стали прежде всего сами граждане Армении — и в большом количестве.
Я поражаюсь, почему против этих людей до сих пор не подают в суд матери и отцы тех, кто потерял своих детей в этой войне. Ведь речь идет о десятках тысяч загубленных жизней, в том числе армянских.
Позволяя подобным преступникам вновь выходить на политическую арену и делать громкие заявления, Пашинян совершает серьезную ошибку. Хотелось бы надеяться, что его борьба с политическими оппонентами однажды перерастет в осознание необходимости глубоких концептуальных изменений, которые могли бы привести к устойчивому миру. Но, к сожалению, этого не происходит.
Следует отметить, что так называемые мирные инициативы Пашиняна возникают исключительно под давлением Азербайджана. Он начинает «умнеть» только после военных поражений.
К сожалению, принуждение к миру остается для Азербайджана единственным действенным инструментом.
— Как вы оцениваете мирный процесс, который был запущен после 8 августа? Есть ли реальные сдвиги в пользу мира и увеличиваются ли шансы, что мирное соглашение будет подписано хотя бы в 2026 году?
— Армянская сторона заявляет, что готова подписать соглашение хоть сегодня. Я не участвую в нынешних переговорах, поэтому не могу с уверенностью утверждать, насколько эти заявления соответствуют действительности. Однако, наблюдая за динамикой позиции Пашиняна, можно отметить, что в его риторике появились тревожные нотки, особенно после визита в Москву.
Сразу после этой поездки мы услышали неполное, но все же заметное обвинение в адрес Азербайджана — в его выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Затем эта тенденция продолжилась и на других международных площадках.
У меня складывается впечатление, что, осознавая риск того, что американская администрация не простит ему попытки саботировать мирный процесс под влиянием Москвы, Пашинян старается демонстрировать внешне мирную повестку, одновременно перекладывая ответственность за напряженность на Азербайджан. К сожалению, эта двойственная игра видна невооруженным глазом.
Все противники проекта TRIPP — инициативы, выдвинутой Дональдом Трампом, — включая Россию и Иран, в той или иной степени попытаются саботировать этот процесс, используя подконтрольных им политиков в Армении. Поэтому мы должны быть готовы к подобным попыткам.
Тактика этих сил достаточно проста — затягивание переговоров. Они рассчитывают, что администрация Трампа со временем утратит интерес к региону. Возможно, их расчет строится и на том, что, выигрывая время, они смогут дождаться смены власти в США и появления другого лидера, менее настойчивого в вопросе мирного урегулирования. Это старая тактика армянской стороны — растягивать процесс и провоцировать новые кризисы.
Мы уже видели это не раз, в том числе и со стороны Пашиняна, когда, с одной стороны, он говорил о признании территориальной целостности Азербайджана, а с другой — его правительство ежегодно выделяло более 300 миллионов долларов на содержание сепаратистов в Ханкенди. Это далеко не первый подобный пример.
К сожалению, тот прорыв, который был достигнут в Вашингтоне, сейчас подвергается серьезному испытанию со стороны противников мира на Южном Кавказе. При этом следует подчеркнуть, что азербайджанская сторона и глава государства продолжают демонстрировать сильную политическую волю, чтобы довести этот процесс до конца.
Выступления, в том числе и в Габале, направлены именно на достижение этого результата, если говорить о постконфликтной ситуации между Арменией и Азербайджаном.
— Как нам известно, отношения между Россией и Азербайджаном находятся не в лучшем состоянии с декабря прошлого года. Президент Азербайджана поздравил Путина с днем рождения, состоялась встреча в Душанбе на полях саммита СНГ. Не кажется ли вам, что Пашинян пытается воспользоваться вакуумом в этих отношениях?
— Эти попытки очевидны — их можно увидеть невооруженным глазом. Возьмем, к примеру, проект TRIPP: сразу возникает вопрос, каким образом Армения собирается его реализовывать, если соответствующие территории находятся под контролем российских пограничников?
Мы не слышали ни одного заявления из Еревана о намерении сократить военное присутствие России, закрыть какие-либо военные базы или вывести российских пограничников. Об этом — ни слова. Лишь общие декларации о стремлении в Евросоюз и о неких демократических преобразованиях. Все это выглядит как типичная попытка усидеть на двух стульях, и она продолжается.
Поэтому нужно ясно понимать: Пашинян и его команда по-прежнему находятся под сильным влиянием Кремля. Все их прозападные заявления — не более чем создание благоприятного информационного фона, рассчитанного на внешнюю аудиторию.
И даже сейчас сложно сказать, кто из армянских политиков более промосковский — Пашинян, Кочарян, Саргсян или кто-то другой. На мой взгляд, все они в той или иной степени действуют в фарватере российской политики.
Что касается азербайджано-российских отношений, то динамика здесь, к сожалению, демонстрирует снижение уровня взаимодействия — и произошло это по вине России. Отношения, которые ранее можно было назвать стратегическими, опустились до нынешнего состояния. Возможно, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение, не отвечающее интересам ни Азербайджана, ни России, будут предприняты шаги, направленные на стабилизацию ситуации.
Я бы охарактеризовал текущий уровень как добрососедство. Но все зависит от позиции Москвы. Прекратит ли она давление на азербайджанцев, проживающих в России? Займет ли в итоге конструктивную позицию по вопросу катастрофы самолета AZAL и гибели наших граждан, о чем сегодня говорили лидеры двух стран?
Тем более что время поджимает. Мы должны понимать: осталось всего несколько месяцев до того момента, когда Казахстан, в соответствии со своими международными обязательствами, должен будет опубликовать результаты расследования. В зависимости от их содержания Азербайджан может потребовать проведения международного расследования катастрофы, если будут скрыты или не полностью раскрыты очевидные виновники трагедии.
Посмотрим. Возможно, предстоящие контакты будут посвящены именно этой теме, ведь приближается момент, когда необходимо будет озвучить итоги следствия. Как известно, по международной практике это должно произойти через год после катастрофы. Поэтому не исключено, что обсуждения этой темы продолжатся на разных уровнях.
По крайней мере, одним из сигналов движения в этом направлении может стать снижение пропагандистской кампании против Азербайджана, которая активно ведется в российских средствах массовой информации.
Я уверен, что в Азербайджане очень внимательно следят за каждым шагом, который предпринимает Россия, и делают соответствующие выводы.
— В последнее время во внешней политике Азербайджана наметилась интересная тенденция: страна повышает уровень взаимоотношений с рядом государств до стратегического — с Китаем, Великобританией, ОАЭ, Италией, Германией и другими. Что это даст Азербайджану?
— Да, все верно. В Азербайджане статус отношений с рядом государств действительно повысился до уровня стратегических. У нас с восемью странами Европейского Союза установлены взаимоотношения такого уровня. Я согласен с вами, что за последний год эта тенденция продвигается очень серьезно.
В настоящее время активизированы соглашения с Великобританией и Китаем. Мы стремимся подписать аналогичный документ и с Соединенными Штатами Америки. Насколько я понимаю, в августе была создана комиссия, которая должна подготовить соответствующий документ в течение шести месяцев. Да, работа в этом направлении ведется.
Что касается вашего вопроса о внешнеполитическом векторе Азербайджана — о его главных направлениях и регалиях в плане международного позиционирования, — то здесь нужно отметить, что мы действительно стремимся вывести страну на новый уровень. Но при этом мы не хотим открывать нашу экономику для внешних игроков без учета национальных интересов.
Я бы разделил этот вопрос на две части — экономическую и внешнеполитическую. Это разные сферы, и их не стоит смешивать. Давайте по порядку.
Начнем с внешнеполитической составляющей. Повышая уровень отношений с целым рядом внешних партнеров до уровня стратегического партнерства, Азербайджан преследует одну главную цель — укрепление взаимного доверия и выстраивание долгосрочного сотрудничества, основанного на равенстве. При этом важно подчеркнуть: повышение уровня отношений не означает, что они выстраиваются против кого-либо. Абсолютно нет.
Исходя из этого, развитие двусторонних отношений и повышение их уровня со всеми перечисленными партнерами не ставит Азербайджан в ситуацию, когда он дружит с одними против других. Это принципиальная позиция и одно из ключевых направлений нашей внешней политики.
Теперь об экономике. Я бы сказал, что Азербайджан находится в уникальной ситуации. Наша страна обладает значительными собственными финансовыми ресурсами, которые позволяют осуществлять внутренние инвестиции и участвовать в международных проектах на равных условиях.
Мы должны понимать, что все внешние инвестиции, как правило, связаны с определенными условиями и обязательствами. Именно поэтому Азербайджан выстраивает экономическую политику таким образом, чтобы привлекать инвестиции на выгодных для себя условиях, не теряя при этом экономического суверенитета и контроля над стратегическими секторами.

Иран начнёт использовать морскую воду в 17 провинциях

Фидан: Турция и США «очень скоро» найдут способ снять санкции CAATSA

Ахмед лш-Шараа о терроризме: В Газе погибло 60 000 невинных людей

Хикмет Гаджиев встретился с секретарем Совбеза Армении в Дохе

Трамп поблагодарил Алиева

США предложили Польше 250 бронемашин Stryker за 1 доллар