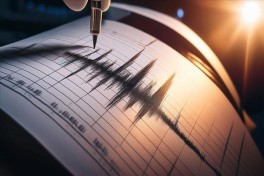Культура
- Главная
- Культура
Зия Шихлинский: Хокума — это символ мужества, преданности профессии и человечности - ИНТЕРВЬЮ

Он — из тех редких режиссеров, чьи фильмы становятся не просто хроникой событий, а живым дыханием времени. Имя Зии Шихлинского хорошо известно ценителям документального кино — советского и азербайджанского. Заслуженный деятель искусств Азербайджана, автор десятков лент, он создавал проникновенные фильмы-портреты о людях, чьи судьбы стали частью истории. Его работы — это уважение к личности, глубокий гуманизм и умение уловить невидимую связь между прошлым и настоящим.
В его кинематографе особое место занимает сохранение памяти — исторической, культурной, человеческой. Многие его фильмы не отпускают зрителя даже после финальных титров, продолжая звучать в мыслях и сердце.
В эксклюзивном интервью Vesti.az Зия Шихлинский рассказал о своей новой документальной ленте «Хокума — печаль моя», посвященной старшему бортпроводнику Хокуме Алиевой, трагически погибшей в авиакатастрофе, и поделился откровенными размышлениями о судьбе азербайджанского кино и своей творческой философии.
_1754910031.jpeg)
— Вы сняли документальный фильм «Хокума — печаль моя», посвященный старшему бортпроводнику самолета Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний», потерпевшего крушение близ Актау, Национальному герою Азербайджана Хокуме Алиевой. Как появилась идея для этого фильма?
— Когда произошла эта страшная трагедия, я сразу понял: об этом нужно снять фильм. Даже до этих событий меня не раз посещала мысль — о ком будет мой следующий фильм, причем о женщине. И, к сожалению, судьба преподнесла такой тяжелый, трагический повод. Я воспринял это как свой долг — и гражданский, и профессиональный.
Помню, как 9 января пришел в Союз кинематографистов Азербайджана и поделился своей идеей с народным артистом нашей республики, председателем Союза Расимом Балаевым. Я сказал, что хочу снять этот фильм о Хокуме Алиевой полностью безвозмездно. Это будет мой третий фильм, созданный без какой-либо финансовой поддержки — просто по зову сердца, «для души».
— Как отреагировал Расим Балаев на ваше предложение?
— Идея ему понравилась, он ее сразу одобрил и предложил содействие со стороны Союза кинематографистов Азербайджана. В итоге руководителем проекта стал сам Расим Балаев, автором и режиссером картины — я, оператором — Юрий Варновский, режиссером монтажа — Мубариз Нагиев, координатором — Али Иса Джаббаров. Хочу отдельно отметить, что все участники команды работали с полной отдачей, но особенно Мубариз Нагиев — он вложил в этот фильм по-настоящему большой труд.
— Где проходили съемки?
— Съемочная работа проходила как в Гяндже, откуда родом Хокума, так и в Баку. В Гянджу мы отправились 14 мая. Кстати, хочу отметить, что сейчас очень удобно добираться туда на электричке из Баку. Там мы встретились и поговорили с Джалилом — отцом Хокумы, — и ее братом.

В Баку мы сняли руководителя магистратуры и докторантуры, профессора университета, в котором училась Хокума Алиева. Также здесь мы встретились и записали интервью с ее супругом и с выжившим бортпроводником, который стал свидетелем той ужасной трагедии. В тот день съемки проходили в Академии авиации. За зданием академии есть красивое и уединенное место, и именно там мы работали. И тут произошло интересное совпадение: съемки длились около 20 минут, и за это время трижды пролетели самолеты. Получился естественный шумовой эффект, который нас приятно удивил.
Не обошлось и без неприятного эпизода. Когда мы снимали педагога Хокумы Алиевой, случилось то, о чем, думаю, стоит рассказать. Прибыли двое молодых полицейских патрульной службы, устроили неподалеку чаепитие и, скажу откровенно, стали мешать нашей работе. А вот во время съемок в авиационной школе ситуация была противоположной: прибыла патрульная машина, мы представились, и нам предложили помощь. Это было очень приятно. Получается, в Сабаиловском районе нам попались невежливые стражи порядка, а в Хазарском — дружелюбные и культурные. Но вернемся к нашему разговору…
_1754911115.jpeg)
Три месяца я вынашивал свой план, и рад, что мне удалось воплотить его в жизнь не без помощи профессиональных людей. Этот фильм, как и моя первая картина «Хотят ли русские войны», стоит для меня особняком. Напомню, она была посвящена трагическим событиям в Баку. Обычно, снимая фильм, я уже знаю, какой будет следующая работа. Но над этими двумя фильмами я думал каждый день. Когда приступал к «Хотят ли русские войны», то работал с особой ответственностью. Эта тема не отпускала меня, и только после того, как мы поставили точку и завершили картину, я почувствовал, что душевно освободился.
Хочу вернуться к съемкам фильма о Хокуме Алиевой. Когда мы были под Гянджой и записывали интервью с ее отцом и братом, они рассказали, что рядом со своим домом строят музей, посвященный Хокуме. Музей открылся в день ее рождения — 8 августа. На это событие собрались не только люди, которые знали ее при жизни, но и многие другие, в сердцах которых отважная бортпроводница останется навсегда.
— Вы упомянули, что фильм о Хокуме Алиевой и «Хотят ли русские войны» во многом похожи. В чем именно эта схожесть?
— Оба этих фильма — «Хокума — печаль моя» и «Хотят ли русские войны» — объединяет то, что в титрах у них нет слова «Конец». Эти картины продолжают жить в мыслях зрителя и после последнего кадра.
Помню, много лет назад в Москве, в Доме кино, состоялась премьера фильма «Хотят ли русские войны». Буквально через две недели после этого российские войска вошли в Вильнюс, еще через неделю — в Ригу. А вскоре страна, к счастью, распалась.
_1754910107.jpeg)
Наш уважаемый президент Ильхам Алиев сказал, что, если понадобится, мы будем добиваться справедливости через международный суд. Возможно, к декабрю этого года мы увидим от российской стороны какие-то подвижки. Время покажет.
Что касается трагедии с азербайджанским самолетом, я хочу сказать не как режиссер, а как гражданин своей страны: если бы президентом Чечни тогда был Герой Советского Союза, один из лучших летчиков-испытателей, бывший президент Чечни Джохар Дудаев, этого никогда не произошло бы. В его время в авиации не было такой неразберихи. Джохар Дудаев был большим профессионалом, и, к счастью, я был с ним лично знаком — и, скажу вам, довольно близко. Но, увы, те времена не вернуть…
— Какой реакции вы ждете от зрителей после просмотра фильма? И что он должен им сказать?
— Знаете, все мои фильмы так или иначе рассказывают об истории Азербайджана, о нашей культуре, о людях, которые оставили заметный след и внесли большой вклад в развитие той или иной сферы. Это могут быть самые разные жанры, разные судьбы и разные обстоятельства — но для меня всегда важно одно: чтобы зритель, посмотрев фильм, хоть немного задумался.
Я никогда не ждал от зрителей конкретной реакции — аплодисментов, слез или восторгов. Моя цель всегда была в другом: подтолкнуть к размышлениям, зацепить что-то в душе. И мне кажется, что на протяжении всей моей творческой жизни это, в той или иной мере, удавалось.
— Можно ли сказать, что фильм «Хокума – печаль моя» — это не только о судьбе одного человека, но и о более широких понятиях, таких как мужество, преданность и историческая память?

— Кого бы мне ни приходилось снимать, каждый герой оказывался по-своему уникальным, один лучше другого. Вот, например, когда я работал над фильмом о Таире Салахове, я прямо сказал ему: «О таких, как Церетели и ему подобных, можно петь дифирамбы. Но мне интересно совершенно другое». Таир Теймурович был необыкновенно интересной личностью. Я говорил ему: «Не люблю эти напыщенные дифирамбы и дикторские тексты. Иногда они, конечно, нужны — но только не здесь». И он со мной соглашался.
Таир Теймурович был до невозможности творческим человеком. Во время съемок он слушал меня, понимал, что нужно сделать именно так, как я предлагаю. А потом, уже по-своему, мог устроить банкет или, наоборот, «стружку снять» — в этом тоже была его творческая натура.
Повторюсь, все, с кем я работал в интервью, — один лучше другого. И, наверное, именно поэтому в фильмах, даже посвященных одной судьбе, всегда проступают более широкие темы — мужество, преданность, память, которая не стирается со временем.
— Не считаете ли вы, что современный зритель устал от «длинного метра» и все чаще требует лаконичного, но емкого средства выражения?
— У меня в фильмографии около тридцати документальных картин, из них десять — это фильмы-портреты: «Генерал Шихлинский», «Академик Юсиф Мамедалиев», «Таир Салахов» и многие другие. Половина из них — спонсорские, остальные — государственные. И я сам себе всегда задавал один и тот же вопрос: почему у нас так мало фильмов о личностях? Причем о великих людях не только из числа интеллигенции, но и среди тружеников, госслужащих, представителей самых разных профессий.

Не могу не вспомнить замечательного человека — Эльдара Гулиева. У него были и сильные, и слабые стороны, но он шутя называл меня «мастером непродолжительных фильмов» (улыбается — авт.). А еще у меня есть друг, еврей по национальности, у которого родственник — известная фигура в азербайджанском кинематографе, режиссер игрового кино. И вот когда мы с этим другом вели увлекательные культурные беседы, я как-то спросил: «Скажи, кто лучший режиссер — твой родственник или я?» И он, не моргнув глазом, ответил: «Конечно ты. У тебя короткие фильмы» (смеется — авт.).
Есть прекрасная фраза: «Искусство требует жертв». Так вот, в качестве жертвы не нужно выбирать зрителей — их надо пощадить. Поэтому я считаю, что фильм должен быть такой длины, чтобы зритель не устал, но при этом получил все, ради чего он сел его смотреть. И вообще, уверен, что нужно не только больше смотреть качественное кино, но и читать книги. Знаете, что спасло меня во время пандемии?..
— Предполагаю, чтение…
— Совершенно верно. Но это не значит, что я сутками сидел с книгой в руках. Я читал, когда была возможность и когда действительно хотелось. Кроме того, смотрел телеканалы, посвященные исключительно культуре, и, конечно же, много гулял.

Читать, на мой взгляд, нужно, но только если к этому тянется рука. Заставлять себя просто потому, что «надо», — не стоит. Я не оправдываю сегодняшнюю молодежь, которая, возможно, стала читать меньше, но я их понимаю: сейчас время другое, ритм другой, и подход к информации тоже изменился.
— Давайте вернемся к кино. Как бы вы охарактеризовали текущее состояние азербайджанского кинематографа? Какие темы стали для него сегодня особенно актуальными?
— Никакие! Отвечу метафорой: сегодня азербайджанское кино — как Ленин. Почему? Умер, а похоронить некому. Это мое мнение. Кино умирает не тогда, когда перестают снимать фильмы, а тогда, когда начинают снимать плохие фильмы.
— Знакомы ли вы с работами молодых азербайджанских режиссеров?
— Не знаю, как вы понимаете слово «молодой», но для меня молодость — это состояние души. Я вижу наших молодых режиссеров и, в целом, не имею к ним серьезных претензий. Правда, иногда в их глазах появляется пустота — такая тоскливая, как у птиц. У Андрея Вознесенского есть замечательные строки: «А в глазах тоска такая, как у птиц. Этот танец называется стриптиз».

Помню, когда в Баку приезжал Микеланджело Антониони — великий итальянский режиссер, сценарист, классик европейского авторского кино, — в Союзе кинематографистов Азербайджана состоялась пресс-конференция. Ему задали вопрос: «Кого из итальянских режиссеров вы могли бы выделить?» Он назвал Федерико Феллини и других мастеров своего уровня и возраста, а потом сказал: «Творчество — это не возраст, это состояние души». И ведь это правда: бывает, человеку 70 лет, а ему есть что сказать и показать зрителю. Например, я считаю, что лучшие фильмы Лукино Висконти и лучшие произведения Джузеппе Верди — поздние. Это, конечно, вопрос вкуса.
Но есть одно несчастье у многих молодых режиссеров: они буквально не вылезают из компьютеров, чем я лично никогда не пользовался. Не хочу ставить себя в пример, но эта привычка приводит к тому, что молодые, как вы говорите, режиссеры начинают смотреть на мир не своими глазами, а глазами тех фильмов, которые они уже видели.
— Лет 30–40 назад, а то и больше, не было современных камер, спецэффектов, техники, оборудования. Тем не менее снимались шедевры, которые мы с интересом смотрим и сегодня. В чем секрет кинематографа прошлых лет?
— Может показаться, что все решают финансы. Но уверяю вас — это далеко не самое главное. Думаю, вы смотрели фильм «Летят журавли»? Эффект, который есть в этой картине, сегодня не сможет повторить никто, даже с самыми новейшими технологиями. И знаете почему? Потому что Сергей Урусевский был мастером высшего класса. А снимал он «Летят журавли» на самую примитивную по тем временам кинокамеру.
Я, например, работал с Фикретом Аскеровым — и выделяю его не случайно. Мы снимали фильм о польской архитектуре Баку, всего минут на семь. Но когда Фикрет брал в руки камеру, он буквально чувствовал ее… Пардон, как мужчина чувствует женщину. Мы работали на пленку. Он делал панораму, мог внезапно остановиться — чтобы потом не переделывать звук на монтаже. И с другими операторами, с которыми мне посчастливилось работать, было так же: каждый из них был мастером, владевшим своим ремеслом до тонкостей, и это ремесло было сродни искусству. Все, без исключения, были сильны в своем деле.

Так что все зависит в первую очередь не от гонорара и не от супертехники, а от того, кто держит камеру. Если ты не мастер своего дела — ничего не выйдет.
И снова хочу вспомнить Эльдара Гулиева. У него была одна очень ценная черта — посмотрев работу, он мог дать совет, но никогда не говорил в духе: «А я бы сделал вот так!» Он умел корректно направить, а не навязать свое видение.
То же самое могу сказать о Рустаме Ибрагимбекове. Когда я еще учился на курсах, показывал ему свои сценарии — он делал замечания, но никогда не пытался «переписать» за тебя. Он был мастером именно в этом отношении. Его комментарии были не столько режиссерскими, сколько драматургическими — и потому особенно ценными.
И у Рустама, и у Эльдара было еще одно хорошее качество - обязательность. Скажешь: «Хочу показать работу» - в ответ: «Завтра, в такое-то время, жду». И они приходили, без опозданий, смотрели, разбирали. Рустам, бывало, даже находил время взять на дом мою будущую курсовую, читал ее, а через пару дней возвращал с комментариями.
Понимаете, это правильное, уважительное отношение к творчеству. И это бесценно.
— Над чем вы работаете сейчас? Какие идеи планируете воплотить в жизнь в ближайшем будущем?
— Проекты и идеи у меня были всегда, и сейчас они тоже есть. Но, знаете, о них не принято говорить заранее. Например, когда я снимал фильм о Таире Салахове, он вдруг сказал: «Зия, а почему бы вам не сделать фильм о Генрихе Фогелере?» Я улыбнулся и ответил: «Таир Теймурович, кино снимать — это вам не картину рисовать». Он от души рассмеялся. Любой творческий процесс сам по себе никогда не бывает легким.
Я не люблю браться за то, что завтра не сможешь реализовать. Лучше дождаться подходящего момента, чем делать вполсилы. У нас есть очень хорошие сценарии, написанные, например, вместе с Тогрулом Джуварлы. Писал он, а я давал материал, идею и развивал замысел. Думаю, что в будущем мы эти проекты обязательно воплотим.
— Каким вы видите будущее азербайджанского кинематографа в ближайшие несколько лет?
_1754910216.jpeg)
— Чтобы вывести кино из сегодняшнего состояния, нужны несколько ключевых компонентов. Скажу так: когда-то у Сталина проходило совещание с участием Сергея Эйзенштейна — выдающегося советского режиссера театра и кино, которого Сталин особенно уважал после фильмов «Александр Невский» и первой серии «Ивана Грозного». Это было еще до Второй мировой. И вот тогда Эйзенштейн сказал фразу, которая, на мой взгляд, актуальна и сегодня: «Почему врачами руководит главврач, инженерами — главный инженер, а нами — зверь совсем чужой породы?».
Очень часто в руководящие кресла в кинематографе садятся люди, которые когда-то «числились» в кино — работали редакторами, осветителями, кем угодно, но не занимались самим процессом создания фильма в полном объеме. А в кино руководить должен именно киношник. Не обязательно режиссер или оператор — это может быть человек, который, например, закончил во ВГИКе экономический факультет и знает весь процесс от и до.
Кино, в отличие от многих других искусств, тесно связано с производством. Если бы завтра, скажем, наш уважаемый господин президент Ильхам Алиев издал указ о выделении кино в отдельную структуру, мы могли бы создать, например, Главк кино. Сейчас организацией, которая занимается кинематографом при Министерстве культуры Азербайджана, и отделом кино в этом же министерстве, занимаются в общей сложности около 30 человек. Я вас уверяю: если бы кино выделили в отдельную структуру, 15 человек было бы более чем достаточно, чтобы эффективно руководить всем процессом.
Конечно, у директора киностудии должны быть большие полномочия. А пока у нас, к сожалению, нет проката и всего одна киностудия. Вот с этого, на мой взгляд, и нужно начинать изменения.
— А как же многочисленные современные столичные кинотеатры, где, помимо голливудских новинок, транслируются и азербайджанские фильмы?
_1754910687.jpeg)
— Это совсем другая история — эти кинотеатры не государственные. И слава Богу, что они есть. Но я говорил о другом: если появится та самая киностудия, о которой я упоминал выше, то, возможно, и эти частные кинотеатры станут еще больше заинтересованы в показе наших, местных кинопроектов. А если будут выходить хотя бы относительно успешные фильмы, то и в районах страны найдутся площадки, где их смогут и будут показывать зрителям. И это, на мой взгляд, было бы очень неплохо.
- Спасибо за интересную беседу!

Ушел из жизни британский гитарист Мик Абрахамс

Принцесса Уэльская и ее дочь исполнили дуэт в Виндзорском замке-ФОТО

Стала известна причина смерти Веры Алентовой -ОБНОВЛЕНО

Иреванский азербайджанский драмтеатр возобновил работу после реконструкции

40 тысяч кадров памяти: в Баку представили AI-фильм о трагедии рейса Баку — Грозный

«Очень странные дела» стали самым популярным сериалом в истории Netflix