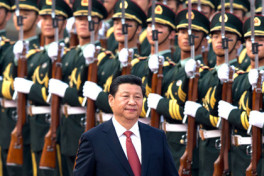Политика
- Главная
- Политика
Консолидация власти или потеря доверия: грузинский парадокс - АНАЛИТИКА

Обыски, прошедшие 17 октября в домах бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили и бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе, стали событием, вызвавшим широкий политический резонанс. Масштаб следственных действий и фигуры их участников дают основания считать, что речь идёт не о стандартной антикоррупционной операции, а о демонстративном шаге, направленном на внутреннее перераспределение власти.
Последние два года политическая система Грузии всё более концентрируется вокруг фигуры Иванишвили, в то же время как, указывают различные источники, Гарибашвили, долгое время считавшийся его преданным соратником, по мере накопления политического опыта начал формировать собственную группу влияния, что и стало, по мнению наблюдателей, источником скрытого конфликта. Теперь его окружение подвергается следственным действиям, которые объясняются борьбой с коррупцией, но фактически служат инструментом политической профилактики и демонтажа старых сетей влияния. Всё это знаменует переход к новой модели управления, где политическая лояльность становится главным критерием сохранения статуса.
Однако последствия происходящего выходят далеко за рамки внутриполитического поля. Грузия долгие годы рассматривалась Западом как образец постсоветской демократии с чётким внешнеполитическим вектором, закреплённым в Конституции: европейская и евроатлантическая интеграция. Сегодня этот вектор сталкивается с парадоксом: с одной стороны, правительство публично заявляет о приверженности курсу на ЕС, а с другой — выстраивает такую вертикаль власти, которая всё меньше соответствует западным стандартам.
Брюссель и Вашингтон уже реагируют на этот диссонанс: несколько программ финансирования были заморожены или перенаправлены в пользу гражданского общества, а диалог о выполнении условий для следующей фазы европейской интеграции замедлился. Риск заключается в том, что дальнейшее ужесточение внутренней политики, особенно если оно будет сопровождаться избирательными расследованиями против бывших союзников, приведёт к дальнейшему падению имиджа грузинского руководства перед западными партнёрами.
В то же время дальнейшее охлаждение с Западом автоматически открывает окно возможностей для Москвы. Россия, находящаяся под санкциями, давно ищет способы усилить своё влияние на Южном Кавказе через экономические и политические каналы, и ослабление западной поддержки Тбилиси лишь расширяет эти возможности. Кремль может использовать антикоррупционные кампании в Грузии как аргумент в пользу внутренней стабильности и суверенной политики, продвигая идею, что дистанцирование от Запада является путем к национальной независимости. В реальности же это может привести к росту зависимости Грузии от российской экономики и финансовых потоков, что вступает в противоречие со стратегическими установками последних десятилетий.
На фоне этого Турция и Азербайджан, оставаясь ключевыми партнёрами Грузии по транзиту и региональной кооперации, скорее всего, укрепят свой прагматичный курс в отношении Тбилиси. Для них важна не политическая риторика Тбилиси, а надёжность транспортных коридоров, стабильность портов и предсказуемость инфраструктурных решений. Однако если внутренние политические процессы приведут к росту рисков по внешнему периметру, это может затронуть и региональные проекты — в частности, модернизацию транспортной инфраструктуры и совместные энергетические инициативы.
Возникает вопрос, как нынешняя модель власти может соответствовать конституционной декларации о евроинтеграции. Единственным способом сохранить формальное соответствие этому курсу остаётся демонстрация прозрачности и беспристрастности в расследованиях. Без этих шагов Грузия рискует окончательно утратить возможность интегрироваться в европейское политическое пространство, что фактически сведёт конституционный принцип к символу без политического содержания.
Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что грузинское руководство, стремясь к полной консолидации власти, может добиться противоположного эффекта: укрепив вертикаль, столкнуться с новым давлением Запада. Если же западные программы будут окончательно свернуты, а Брюссель и Вашингтон ограничатся взаимодействием с НПО и оппозицией, влияние России усилится — и все усилия прежних лет, направленные на институциональную интеграцию в евроатлантическое пространство, окажутся нивелированы.
Таким образом, события 17 октября — это не просто эпизод внутреннего противостояния элит, а симптом глубокого политического сдвига, который определит внешнеполитическую судьбу Грузии. Страна, десятилетиями служившая примером прозападного курса на Южном Кавказе, рискует оказаться в новой реальности — между сохранением формальных деклараций о европейском выборе и фактическим дрейфом к модели «суверенной демократии», для которой внешняя независимость становится синонимом консолидации элит.

Рамиз Мехдиев — анатомия неблагодарности и предательства: кто входил в его план?

Закир Гасанов принял Бреда Купера

Эрдоган поздравил Азербайджан

Президент Азербайджана принял адмирала ВМС США Брэда Купера-ФОТО

Парламентская делегация Азербайджана прибыла в Женеву-ФОТО

В Казахстане заявили о важности встречи Алиева и Токаева